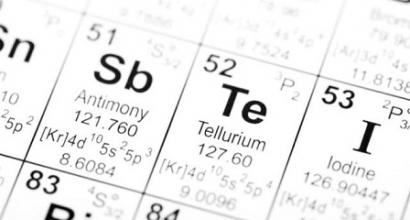«Христос в темнице». Пермская деревянная скульптура. Как и для чего появились «пермские боги»
Один из главных символов Пермского края – пермская деревянная скульптура («пермские боги»). Это поистине уникальная скульптура, не имеющая аналогов более нигде.
Пермская деревянная скульптура была распространена в церквях на севере Пермской губернии в XVII – XIX веках. Местные народы, издавна придерживавшиеся язычества, даже перейдя в православие, не смогли поклоняться плоским иконам. Поэтому они вырезали из дерева фигуры Иисуса и других святых, по сути продолжая традицию поклоняться деревянным идолам. Такие объемные изображения были им куда ближе.
Несмотря на запреты деревянных религиозных скульптур церковными властями (православная церковь считает, что объемные изображение святых каким-то образом оскверняет святой дух), «деревянные боги» на протяжении нескольких веков лишь множились в церквях Урала, в местностях, где жили коми-пермяки. Вопреки указам сверху местные священники, боясь потерять свою паству, не сжигали деревянных Иисусов и не расправлялись с изготовлявшими их искусными мастерами, как это часто бывало в борьбе со старообрядцами.
Специалисты отмечают в пермской деревянной скульптуре монументальность художественных решений, яркую образность, высокую эмоциональность и недюжинное мастерство. Вырезавшие скульптуры мастера словно вложили в свое творение всю свою душу, создав настоящие шедевры.
Лица деревянных богов полны муки, жертвенности. При этом внешность вырезанных из дерева православных святых имеет явно выраженные коми-пермяцкие черты. Их отличают широкие скулы и азиатские глаза.
Самым распространенным образом Иисуса Христа в пермской деревянной скульптуре стал так называемый Спас в темнице (или Спас полуночный). Этот образ показывает сидящего Иисуса с терновым венком на голове незадолго до распятия на Голгофе. Обычно эту скульптуру помещали в церкви в некое подобие темниц, сколоченных из дерева. Некоторые скульптуры выполнены в натуральную величину.
Также, помимо Иисуса Христа, большим почетом среди пермяков пользовался Николай Чудотворец.
Коми-пермяки относились к скульптурам с трогательной любовью и трепетом. Они одевали и обували деревянных богов, как живых, приносили им угощения и дары. Пермяки верили, что по ночам скульптуры оживали и ходили по храму, поэтому регулярно меняли им обувь.
Богатой коллекции «пермских богов» мы должны быть обязаны Николаю Серебренникову. В 1920-е годы он организовал несколько экспедиций по старинным селам на севере Пермской области для сбора уникальных скульптур. Экспедиции были очень не простыми. Как вспоминал сам Серебренников, «во все поездки пришлось проехать 5083 версты, из них 2059 верст лошадьми, 2105 пароходом и 919 верст железной дорогой». Всего за шесть экспедиций было собрано 195 скульптур! И это не считая различных других старинных изделий.
Первая выставка собранных Серебренниковым деревянных скульптур открылась в Перми 27 апреля 1924 года, вызвав большой интерес.
Если бы не Серебренников, то «пермских богов», как и прочую церковную утварь, ждала бы печальная участь быть поглощенными в огне во времена борьбы с религией.
Самая большая в мире коллекция пермской деревянной скульптуры находится, как и положено, в Перми – в Пермской художественной галерее. В настоящее время в коллекции Пермской галереи около 370 резных изображений.
В 1928 году нарком просвещения А.В. Луначарский в рамках визита в Пермь посетил выставку пермской деревянной скульптуры, которая привела его в восторг. Вот что он написал об увиденном:
«Посетил художественную часть Пермского музея. Совершенно потрясающее впечатление производит богатейшая коллекция деревянных скульптур. Это ново, необычайно интересно с художественной и культурно-исторический точки зрения и в то же время поражает своей художественной силой как в смысле своеобразного мастерства техники, так и по силе психологической выразительности».
В 2010 году часть уникальной коллекции экспонировалась во Франции. Выставка пользовалась огромным интересом среди французов. Однако многие известные пермяки высказывались категорически против такой поездки «пермских богов» заграницу, боясь их утраты и порчи в пути. Однако недавно все боги благополучно вернулись на свою родину.
Пермская художественная галерея была открыта в 1936 году. Безусловно, главная «фишка» музея – пермская деревянная скульптура. Но в картинной галерее есть и другие интересные экспонаты. Посетители увидят здесь множество образцов живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства как России, так и других стран мира. К слову, коллекция Пермской галереи составляет почти 43 тысячи единиц хранения.
Спасо-Преображенский собор с колокольней, в котором находится Пермская художественная галерея, – главный символ города Перми, памятник архитектуры XIX века. Отсюда открывается красивый вид на реку Каму и набережную.
Поездка в город Пермь — отличный познавательный маршрут выходного дня. Пермь называет себя главной культурной столицей России. Здесь проходит много интереснейших культурных событий и поездку сюда можно совместить с посещением одного из них. Описания и программу самых ярких событий можно найти на нашем сайте в разделе «Календарь событий».
Также рекомендуем посмотреть другие достопримечательности Перми, посетить музей истории Мотовилихинских заводов. Можно также побывать на Камской ГЭС, посмотреть Камское море и насладиться открывающимся видом на мысе Стрелка — на месте слияния рек Кама и Чусовая. Кстати, по мнению астролога Павла Глобы, именно здесь родился легендарный Заратустра…
По пути можно посетить архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей политических репрессий «Пермь-36» близ города Чусовой, Белогорский монастырь, Кунгурскую ледяную пещеру и водопад Плакун.



В Исторический музей привезли «Христианские древности Пермского края» - 120 экспонатов из собрания Пермской художественной галереи, включая самое интересное - расписные деревянные скульптуры. Они не встречаются в русских православных храмах нигде, кроме Пермского края.
Большая часть экспонатов связана с родом Строгановых, заводчиков и промышленников, фактических владельцев Пермского края. Их послал на Урал еще Иван Грозный - осваивать "места пустые, леса черные, реки и озера дикие, всего пустого места 146 верст". Предприимчивые Строгановы получили в качестве первого взноса 3,5 млн десятин земли по рекам Каме и Чусовой и освобождение от налогов на 20 лет.
С их именами связана история русского фронтира: походы Ермака, войны с Ногайской ордой, подавление недовольства местных народностей - коми-пермяков, башкир, зырян. Строгановы завели в этих краях солеваренный промысел, строили города и крепости - базу для будущего продвижения за "каменный пояс" Урала в Сибирь, завозили переселенцев из Поморья и казачьих земель. Поставляли в Москву царям деньги, продовольствие, пушки. Словом, история строгановской пермской "империи" растянулась на 17 поколений.
Строгановы же были основными заказчиками убранства для местных храмов. При них в церквях появились неканонические деревянные "пермские боги". Деревянная скульптура появилась в церквях на севере Пермской губернии в XVII-XIX веках. Местные народы, даже приняв в XV веке православие, не поклонялись иконам - они вырезали из дерева фигуры Иисуса и святых, несмотря на синодальные запреты. Церковь на остаточное язычество пермяков смотрела сквозь пальцы - деревянные скульптуры не жгли, мастеров не ущемляли.


Теперь одни исследователи называют "деревянных богов" "эпилогом" древнерусской скульптуры, ее трансформацию на почве национальной культуры, другие замечают, что они были опалены «дыханием вездесущего барокко», вписавшись в мировой культурный тренд.
Когда уже при Советах, в 20-ые годы XX века первые экспедиции собирали скульптуры по селам на севере Пермской области, многие из них уцелели благодаря своей "народности". Так, Николай Серебренников, автор первой монографии о "пермских богах" был убежден, что скульптуры сохранили языческие, а значит «народные» черты, и произошли от пермяцких идолов. С тех пор пермскую деревянную скульптуру рассматривают как результат взаимодействия "русской и местной культурных традиций".
Чаще всего резчиками изображался Христос - Спас в темнице перед восхождением на Голгофу (или Спас полуночный), образ сидящего Иисуса с терновым венком на голове, поругаемого римскими стражниками..

Считается, что "Сидящий Спаситель" - иконографически для России диковинный тип, а для западноевропейской традиции более привычный. В убранстве католических храмов полихромная скульптура встречается повсеместно. В православном обряде это большая редкость.

Почему этот образ оказался популярен в Пермском крае, до сих пор спорят. Возможно, потому, что в этих местах сошлись несколько культур: местное язычество, русское православие и западный католицизм (католики ссылались сюда после Смуты 1612 года). Кроме того, владык на Пермскую митрополичью кафедру присылали с малороссийского юга, где в церковном искусстве также были сильно распространены западные мотивы. Возможно, иерархи привозили с собой художников,

Это "Сидящий Христос" из Усолья, с ладонью, горестно прижатой к щеке, "образец местных мук и пермяцкой печали, разведенных на камской воде" (Кушнер). Господь-вогул, с широкими азиатскими скулами, с "раскосыми и жадными очами". Видно, местные резчики создавали своих богов по своему образу и подобию.


"Распятие с предстоящими" (фрагмент). Предстоящие Богоматерь и Иоанн Богослов из Соликамска. Конец XVIII века.
Вот ангелы в ватниках, напоминают чернорабочих медеплавильных заводов или беглых каторжан. "Во многих скульптурах чувствуется опыт реалистических наблюдений", - деликатно замечет каталожек выставки.
Параскева Пятница (с Варварой и Екатериной), считается покровительницей семейного очага, бездетные пермяки до сих пор ходят в музей поклониться ей и вымолить потомство. Фигура святой больше трехсот лет назад находилась в Никольском храме Ныроба.



Коми-пермяки относились к скульптурам как к живым - одевали и обували, угощали. Они верили, что по ночам скульптуры оживают и ходят по храму, поэтому регулярно меняли им обувь.
Три образа Николы Чудотворца. Сотрудники Пермской галереи зовут из "Николушками". Хотя это и поздние памятники, они сделаны больше в древнерусской традиции.


"Пермское барокко": царские врата ХVIII-ХIХ веков с "травными" орнаментами и обильной позолотой и живописными вставками.



Распятие в окружении множества херувимов. Его автор - Никон Кирьянов, крестьянин из деревни Габово Карагайской волости. Он построил для односельчан 2 часовни. Одну из них украсил резными изваяниями святых и ангелов:



Напрестольный крест и панагия в полудрагоценных каменьях - явно уральского происхождения

Мало кто не слышал о пермской деревянной скульптуре, а многие видели ее, если не воочию, то хотя бы на фотографиях.
Сегодня стало уже общим местом называть деревянные скульптуры Пермского края "пермскими богами", говорить об их уникальности и о том, что лица скульптурных изображений несут несомненные признаки принадлежности к местному коми-пермяцкому населению. Очень хорошо это передано в посте l_afinogentov : "Пермская деревянная скульптура была распространена в церквях на севере Пермской губернии в XVII - XIX веках. Местные народы, издавна придерживавшиеся язычества, даже перейдя в православие, не смогли поклоняться плоским иконам. Поэтому они вырезали из дерева фигуры Иисуса и других святых, по сути продолжая традицию поклоняться деревянным идолам. Такие объемные изображения были им куда ближе.
Несмотря на запреты деревянных религиозных скульптур церковными властями (православная церковь считает, что объемные изображение святых каким-то образом оскверняет святой дух. Стоглавый собор ещё в 1551 году, а Святейший синод в 1722 строго-настрого запретили резные или истесанные иконы, а тем более изображения святых в виде скульптур)
, «деревянные боги» на протяжении нескольких веков лишь множились в церквях Урала, в местностях, где жили коми-пермяки. Вопреки указам сверху местные священники, боясь потерять свою паству, не сжигали деревянных Иисусов и не расправлялись с изготовлявшими их искусными мастерами, как это часто бывало в борьбе со старообрядцами". - взято здесь -
http://l-afinogentov.livejournal.com/303811.html
Процитированный автор пересказал то, что воспринял из рассказов экскурсоводов и, очевидно, прочитанных материалов. Но вот действительность, похоже несколько иная.
Во-первых, деревянная скульптура была осень широко распространена в России. Но в 1920-х годах в Пермских краях нашелся человек, который организовал сбор деревянной скульптуры в разных селениях Прикамья и объяснить властям, что это не только предметы культа, но и произведения народного искусства. Он организовал несколько экспедиций по выявлению и сбору скульптуры. Именно эти материалы и составили основу коллекции, которая хранится сегодня в Перми. Николай Серебренников практически спас этот пласт культуры в Прикамье от уничтожения. Он же был первым популяризатором деревянной скульптуры и издал первый альбом с фотографиями этих произведений народного творчества. Увы, в других краях не нашлось человека, который бы сделал то же самое в отношении скульптуры Русского Севера, Владимирской земли и т.д. Поэтому, увы, в других областях осталось лишь небольшое количество произведений такого типа.
Во-вторых, признаки местного антропологического типа присутствуют, но далеко не всех скульптурах (даже не в большинстве), и это не является исключительной чертой пермских "богов" - я имею в виду, что широкие скулы и прочие признаки вроде как уральского антропологического типа встречаются на "лицах" скульптур, изготовленных гораздо западнее. Чуть дальше я попытаюсь подтвердить свои слова.
В третьих, язычники на территории России делали очень примитивные идолы. Практически идентичны деревянные идолы, найденные при раскопках Новгорода и те, что стояли (и стоят) на святилищах сибирских народов. То есть изготовление скульптуры все же не "почин" местных жителей (имею в виду коми-пермяков) поскольку в их культурной традиции не было изготовления реалистичной скульптуры. Эта культурная традиция заимствована с Запада (частью из Византии), но естественно, претерпела некоторые изменения, попав на местную почву. Развитие христианской скульптуры, это, в общем-то общая тенденция эпохи барокко, то есть XVII-XVIII веков. Сама скульптура возникает раньше, но широко распространяется именно в этот период.
Сейчас несколько фотографий из галереи в Перми, где выставлена часть коллекции пермской деревянной скульптуры:







Я ничего не подтасовывал, а просто взял подряд фотографии из выборки (выборка более-менее приличных по качеству снимков). Можете убедиться, что значительное число образов, воплощенных в пермской скульптуре явно тяготеет к европейским "исходникам". Снимал пару лет назад. Сама выборка на Яндекс-фотках.
А дальше приведу несколько кадров из музея в городе Плоцке, что в Польше. Извиняюсь за качество снимков - условия были не очень, а со вспышкой снимать постеснялся. Это было лет десять тому назад.



ПЕРМСКИЕ БОГИ
Статья впервые напечатана в журнале «Советское искусство», 1928, № 5, с. 22-29. Публикуется по тексту журнала.
В журнале статья иллюстрирована изображениями некоторых пермских скульптур. На них и ссылается Луначарский.
Из всех видов изобразительных искусств наименьше повезло в нашей стране скульптуре. В культурном, индивидуализированном искусстве нашей страны «в скульптура, как таковая, т. е. изобразительное ваяние, вращающееся главным образом вокруг человека, занимает скромную роль. Мы имели в XVIII и XIX столетиях несколько очень хороших, крупных скульпторов. Однако наше скульптурное прошло;, с одной стороны, никоим образом не может быть поставлено на один уровень со скульптурой европейских стран и, с другой, уступает, несомненно, и в количестве имен, и в богатстве произведений, и в их значительности и нашей живописи, и графике, не говоря уже об архитектуре.
В настоящее время мы имеем как будто некоторый интересный перелом в этом отношении. Первая самостоятельная скульптурная выставка в Москве была неожиданным сюрпризом в смысле количества интересных экспонатов. На организованной Совнаркомом выставке государственных заказов к 10–летию Октября скульпторы, на мой взгляд, безусловно одержали верх над живописцами. Однако еще рано говорить о каком–нибудь повороте в этом отношении.
И устно и письменно иные знатоки нашего искусства и иные интересующиеся им дилетанты любят повторять, что скульптура не свойственна натуре населяющих нашу страну народов и что, кроме того, скульптурный инстинкт их подточен православием, которое допускало в сыгравшем такую огромную роль в искусстве церковном изобразительном культе богатое участие живописи и всякого рода орнамента, и резного, и лепного, но с большим равнодушием, а иногда и с яркой враждебностью относилось к скульптурным произведениям. Скульптурное изображение бога п святых в течение очень долгого времени казалось прямым шагом к идолопоклонству; иконы принимали за менее опасное овеществление божества. А церковный заказ долгое время доминировал над всяким другим.
Быть может, во всем этом есть известная доля истины. Может быть, действительно, специфические социальные условия, условия нашего культурного развития мешали подлинному развертыванию скульптурного гения народов, населяющих территорию нашего Союза. Но что гений этот присущ если не всем, может быть, то многим национальным элементам нашей родины, - это не подлежит никакому сомнению. Дальнейшие изыскания в этой области найдут, вероятно, множество интереснейших линий скульптурного творчества, которым не хватало только достаточной поддержки в социальной среде для того, чтобы расцвесть с самой изумительной роскошью.
На такие мысли наводит недавно только во всем своем объеме открытая пермская народная скульптура, к изучению которой приступили лишь в самое последнее время.
Пермская деревянная скульптура собрана в Пермском государственном областном музее. Ей посвящена чрезвычайно интересная работа Н. Н. Серебренникова «Пермская деревянная скульптура (Материалы предварительного изучения и опись)».
При входе в большую залу, где собраны пермские «боги», я был поражен их обилием, разнообразием, неожиданной выразительностью и смесью наивности и непосредственности с искусством, иногда положительно утонченным.
Что же такое представляет собой эта пермская скульптура, развернувшаяся, по–видимому, в XVII веке, продолжавшая жить и эволюционировать в течение всего XVIII века и начавшая клониться к некоторому упадку в XIX веке, а сейчас замершая, будем надеяться - в ожидании нового расцвета на новых началах?
Пермская скульптура служила церкви. Однако оригинальная нота, которая пронизывает эту скульптуру и делает ее и социологически и художественно необычайно ценной, есть нота языческая, нота инородческая, идущая несомненно и прямо от пермяцкой культуры идолопоклонников.
Правда, несмотря на энергичное гонение православного духовенства (вернее, его руководителей) на церковное ваяние, оно отнюдь не отсутствует в художественном убранстве православных храмов, отчасти благодаря влиянию католической церкви, которая, как известно, отводила церковной скульптуре не меньше места, чем живописи. Такое влияние шло из Германии через Новгород и Псков. Оно оставило значительные интересные следы в виде памятников, главным образом, деревянного ваяния. С другой стороны, оно широким потоком хлынуло на Украину через Австрию, Польшу, отразилось на многих и многих украинских церквах и стало просачиваться и на север. Нет никакого сомнения, что и до пермской окраины докатились обе эти волны. Пермская окраина не могла не ощущать действия культурных силовых линий, шедших от Новогорода в очень старые времена. Известно, что в Перми работали некоторые украинские архиереи, несомненно, более либерально настроенные по отношению к скульптурному убранству церквей, и приносили сюда свой вкус.
Однако чрезвычайное развитие скульптуры в Пермской губернии объясняется не только этим воздействием, а еще тем, что она нашла чрезвычайно плодотворную почву для своего развития среди пермяков, как видно, в течение долгих веков своего язычества выработавших свои особые скульптурные приемы. В самом деле, больше всего таких скульптур (в церквах или в кладовых на колокольнях церквей, в полузаброшенном виде) мы находим в Верхне–Камском и Коми–Пермяцком округах. Чем дальше на юг и запад, тем менее изваянии мы находим, т. е. изваяния убывают вместе с убылью процента коренного пермяцкого населения. Не меньшим доказательством служит и то, что пермяцкий расовый тип, резко отличный от великорусского, сказался на большинстве изваяний.
Можно сказать даже, что две основных фигуры пермской скульптуры - сидящий Христос и Никола Можай - представляют собой прямую замену раньше существовавших божественных изображений.
Мы знаем, что в течение долгого времени любимым изображением какого–то языческого существа была так называемая «Золотая баба».
Многое заставляет предположить, что «Золотая баба» - это докатившееся до пермяков через степи изображение сидящего Будды. Спокойный, в веках отдыхающий бог, в котором для высоко развитой буддийской религиозности отражалась философская идея нирваны, а для простого человека, задавленного трудом и страданием, - идея успокоения, принят был и первобытным пермяком с чувством глубокого удовлетворения.
На место этого сидящего Будды и стал водворяться сидящий Христос, в особенности в XVIII веке, когда великорусские завоеватели и их духовенство стали истреблять огнем и мечом, законом и беззаконием остатки первобытной религии и культа.
Интересно отметить, что пермяцкий сидящий Христос, раскрашенный и большею частью одетый в разные ризы, имеет всегда одну и ту же позу. Он сидит не столько задумчивый, сколько как бы далеко ушедший от мира, старающийся все перетерпеть в какой–то упорной пассивности, и всегда у него одна рука - либо правая, либо левая - поднята к щеке как бы для того, чтобы защититься от пощечины. Какой странный и совсем крестьянский бог! Он изображен в тот момент, когда его избивают и когда этому избиению он противопоставляет какое–то упрямое терпение, Пермяк–язычник - тот молился «Золотой бабе», у которой была неясная расплывчатая улыбка безмятежного сна, - языческую «Золотую бабу» никто никогда не бил.
Но вот пришла христианская религия и вместе с нею и христианские нравы. Пермяк почувствовал всю прелесть великорусской цивилизации и стал под видом Христа изображать себя самого (его Христос - пермяцкий мужик) в виде избиваемого терпеливца.
Никола Можай - другой излюбленный бог пермяков. В одной руке он держит меч, а в другой - церковь (прежде - какую–то другую неясную мебельку). В нем узнают первобытного бога Войпеля - национальное божество, в которое, по–видимому, вложена тоже идущая с Дальнего Востока идея бога, который разрушает и созидает.
Можно думать, что и Параскева–Пятница, изображающаяся в виде грозной, большеголовой фигуры аскетического типа, - Параскева, которой вовсе нет в церковных святцах, но поклонение которой сильно распространено в разных местах России, являет собою тоже отображение женского божества, с неясными функциями какой–то выродившейся северной сестры Изиды, Иштар и Афродиты.
Любопытно познакомиться с этой раскрашенной деревянной скульптурой пермяпко–российского происхождения в быту. Сейчас этот быт отходит безвозвратно в прошлое, от него остаются лишь некоторые обломки, но это не мешает ему быть интересным. Как мы уже сказали, боги эти близки пермяку, они связаны с ним длинной связью. Пермяк все еще относится к изображениям богов, как к идолам; например, если святой или бог, изображенный на иконе, висящей в пермяцкой избе, не исполнил какой–нибудь молитвы, то пермяк в наказание перевешивает на определенное количество дней икону головой вниз. Когда из деревни Толстика Верхне–Камского округа изъяли несколько скульптур для галереи и просили крестьян привезти их к пароходу на камскую пристань за пять верст, то просто заждались этих статуй. Они явились с величайшим опозданием. Оказалось, что опоздание объясняется желанием всего населения попрощаться со статуями. Староста заявил: «людей провожают, и то прощаются». Кроме того, толстиковские пермяки никак не пожелали положить своих богов просто в ящики - «не вещи». Они устроили им гробы, постлали стружек и пакли, застлали все холстом, уложили своих богов и накрыли холстяными одеялами. Так и отправили в галерею.
В пермской часовне Петра и Павла находился знаменитый сидящий «спаситель». По общему мнению, когда никто за ним не наблюдал, он поднимался и уходил из часовни и отправлялся по своим делам. При этом он изнашивал обувь, так что почитатели его каждый год приносили ему новую пару башмаков, а к концу года, глянь, - он уже опять износит подошвы до дыр. Так же точно, по. словам верующих, Никола Можай из деревни Зеленяты любил ходить. По свидетельству сторожа, он за 7 лет износил 8 пар башмаков. Когда обследователь спросил сторожа, почему же Николай Можай так стремится совершать свои пешеходные путешествия, то сторож объяснил: «ведь ись–то хочет, а дерево не заешь». Таким образом, бог ходил, очевидно, подворовывать, где мог, пропитание, ибо хотя сам он и резной из дерева, но «заедать» дерево казалось ему недостаточно аппетитным. На праздник этого зеленяцкого Николы Можая 16 июля обычно стекалось более 10 000 молящихся, 9 причтов служили непрерывные молебны и увозили крестьянские медные пятаки большими мешками. Молящиеся подходили целовать Николу Можая. Ежели целовать его без митры - 5 копеек, в старой митре - пятьдесят копеек, в новой митре - рубль. Очевидно, бедняки целовали на пятак, середняки - на полтинник, а кулаки - на целковый. Больные места разрешалось потереть полой Николы Можая, отчего ужасающим образом после каждого такого праздника распространялась трахома, и иногда и сифилис.
Высоко художественная выразительность пермяцких богов имела значение для духовенства. Так, например, в селе Троицы население протестовало против увоза сидящего Христа и, объясняя свою к нему привязанность, заявляло: «Очень уж жалостливо на него смотреть, без слез из часовни не выйдешь». И все же часть этих богов, по настоянию православного духовенства, объявляли заштатными, уносили в кладовые и даже попросту рубили на дрова.
Резали эти статуи и превосходно раскрашивали их особые мастера. О последних из них, братьях Филимоновых и Иване Ивановиче Мельникове из Обвинена, до нас дошли сведения. Еще во второй половине XIX века в Пермско–Уральском крае было 15 цеховых резчиков. Как видите, это была целая школа, которая могла путем зависимости друг от друга развивать свое искусство.
Достаточно беглого взгляда на характер резьбы этой скульптуры, чтобы увидеть значительное влияние Запада, скандинавов и немцев, в меньшей степени итальянцев. Часто вся манера резьбы, и в особенности трактовка обильных одежд в позднеготическом духе или даже в духе барокко, доходит почти до тождества с недюжинными произведениями соответственных западноевропейских эпох.
Очень жаль, что трудно проследить корни пермской скульптуры. Известно, что еще в древнейшие времена пермяки обладали большим скульптурным талантом, о чем свидетельствуют многочисленные металлические фигуры, относимые к ранним временам их культуры. Была у них и деревянная, раскрашенная скульптура, но от того времени остался один только деревянный идол из ГОигиринского торфяника. Еще в конце XV века Иона, епископ Пермский, окрестив Великую Пермь и ее князя, начал борьбу с истуканами, о которых так и сказано: «Боги были болваны истуканные, изваянные, издолбленные, вырезом вырезанные».
Таким образом, XVII век, начавший создавать церковную скульптуру после окончательной победы великороссов над пермяками (ногайцами, как их называли в то время), несомненно, связан со старой пермской культурой. Пермский простолюдин, как правильно говорит Серебренников, явно носил в себе большое творческое горение, ибо скульптура эта если и создана «мастерами», то мастера–то эти были крестьянами.
Замечательно искусство резьбы, своеобразно развертывающееся за двухсотлетний период; полна вкуса также и раскраска. Серебренников правильно охарактеризовал ее: «…скромность и мерность в раскраске одежд, также и ограниченное число цветов удачно помогает мастеру избегать тяжеловатости в складках одежд. Однотонная раскраска каждой одежды в свой, обязательно почти приглушенный, цвет способствует передаче мягких теней и является одним из главных элементов, организующих композицию целостной и связанной. Любимыми цветами для раскраски являются белый, черный, синий, красный, сине–зеленый, затем введен был сиреневый, голубоватый и др.».
Не будем вдаваться в подробности технического порядка, в существующие, очевидно, течения и школы, развертывавшиеся как параллельно, так и последовательно; остановимся несколько на отдельных произведениях, которые нам пришлось видеть в музее. Обильно представлены здесь сидящие Христы. Для того чтобы дать полное понятие о таком Христе в бытовом отношении, выставлены полностью сидящие в темнице «спасители» вместе с часовней - то великолепной резьбы, как Капабековская, то простой, словно шкаф, как в Большой Коче.
Больше–Кочевского весьма замечательного Христа, приложившего руку к пораженному пощечиной лицу, мы здесь приводим в виде иллюстрации. Однако в художественно–психологическом отношении более разительны некоторые другие сидящие «спасители», представленные в раздетом виде, как их непосредственно резали мастера. Приводим одного такого спасителя–пермячка из часовни Редикоре. Несмотря на некоторую наивность изображения, он представляет собою изумительное произведение искусства в смысле смелой стилизации и почти страшного выражения лица, в котором сквозит тупая, упрямая покорность и в то же время внутренний ужас - символ заглушаемого народа.
Из распятий наиболее изумительно (хотя интересных распятий очень много) то, которое вывезено из Соликамской часовни. Если оно производит непосредственно болезненное и могучее впечатление на каждого, то знаток искусства не может не поразиться экономии приемов, глубокому инстинктивному расчету эффекта позы, в которой одновременно учтена пассивная покорность исстрадавшегося организма и тяготеющая сила уже инертной массы. Нельзя не обратить внимания также на совершенно экспрессионистскую выразительность художественно трактованной полумертвой головы с ее черными, как уголь, спадающими кудрями.
Совершенно невиданным и совершенно потрясающим явлением надо признать бога Саваофа из Лысьвенской церкви. Здесь мы имеем изображение бога необыкновенно могучего. Голова трактована под влиянием античной скульптуры, это - голова Юпитера. От всей композиции веет каким–то своеобразным соединением антика или высокого ренессанса и барокко. Серебренников склонен видеть в этом произведение какого–нибудь крепостного, который путешествовал по Европе и видел южноевропейские образцы. Может быть.
Из Никол Можаев, которые все необыкновенно характерны и любопытны, приводим почти загадочную фигуру из Покчи. Это положительно шедевр экспрессионистской скульптуры, имеющий в себе какую–то высокохудожественную манеру. Вся трактовка небольшой фигуры в строго падающих одеждах полна вкуса. Длинный меч в одной руке, церковь типа конца XVII века-в другой. Но самое замечательное - его голова, сверхъестественно удлиненная, странным типом которой поэт–скульптор хотел передать какую–то высокую психическую мощь. Статуя поражает именно изумительной уверенностью художника и полетом психологического воображения мастера.
Наконец, древнее изображение богини Пятницы из Ныроба довершит приводимые здесь иллюстрации, которые лишь частично исчерпывают самое интересное в музее и книге Серебренникова. Необычайно простыми приемами выполнена здесь эта фигура, беспощадная, суровая, полным живой укоризны глазом глядящая повелительница - настоящее отражение древнейшего матриархата.
Какие же выводы можно сделать из этой сокровищницы русско–пермских скульптурных произведений? По–видимому, высокий результат достигнут был скрещиванием зрелого искусства Запада с имевшимся на месте высоким скульптурным инстинктом древне–языческой пермяцкой культуры. Инстинкт этот выливался не только в чувство формы, будь она упрощена или, напротив, виртуозно и витиевато выражена при помощи обильных складок одежды, но, главным образом, в социально–психологическую выразительность, которую полусознательно вкладывали пермяцкие мастера в свои произведения. Страдания оскорбляемого смертной мукой человека - жертвы, преклонение, с другой стороны, перед повелителями, будь то далекий бог–царь Саваоф, или какой–то правящий мозгом массы загадочный кудесник Никола Можай, или угрюмая матрона Пятница, - вот что мы находим, главным образом, отпечатленным в испуганном и скорбном воображении религиозного пермяка. Бог его либо выражает сто собственную скорбь, либо является превосходящим его культуру господином и палачом.
Пожелаем всей душой, чтобы пермяцкий скульптурный гений не усох вместе с усыханием церковной скульптуры. Там должны быть рассыпаны внуки и правнуки своеобразных, почти гениальных резчиков страны. Теперь им незачем будет обожествлять униженное терпение или беспощадную власть. Иные времена - иные песни; иные времена - иные статуи. Но нельзя не признать в пермских богах свидетельство огромной талантливости, огромного художественного вкуса, огромной способности выразительности, которая свойственна не только народам великорусско–пермяцкой смеси северо–восточной части Пермского края, но, конечно, многим и многим другим группам высоко одаренного населения нашего Союза.
Из книги Из «Слов пигмея» автора Акутагава РюноскэБОГИ Из всего, что свойственно богам, наибольшее сожаление вызывает то, что они не могут совершить
Из книги Слова пигмея автора Акутагава РюноскэБОГИ Из всего присущего богам наибольшее мое сочувствие вызывает то, что они не могут покончить жизнь самоубийством.О ТОМ ЖЕМы находим массу причин поносить богов. Но, как это ни печально, японцы не верят и в заслуживающего поношения всемогущего
Из книги Тайна Запада: Атлантида - Европа автораЧАСТЬ II БОГИ АТЛАНТИДЫ
Из книги Тайна Запада. Атлантида – Европа автора Мережковский Дмитрий Сергеевич4. КРЕЩЕНЫЕ БОГИ IДва креста: западный, паленкский, в царстве Майя, сложный, пышный, махровый, как здешних лихорадочно-знойных болот орхидея, оскверненный, поруганный, как бы насквозь прокуренный всеми ладанами черных мэсс; и восточный, критский, в царстве Миноса, еще
Из книги Курс истории древней философии автора Трубецкой Николай СергеевичЧасть II.Боги Атлантиды
Из книги Феноменология духа автора Гегель Георг Вильгельм Фридрих4. Крещеные боги I Два креста: западный, паленкский, в царстве Майя, сложный, пышный, махровый, как здешних лихорадочно-знойных болот орхидея, оскверненный, поруганный, как бы насквозь прокуренный всеми ладанами черных мэсс; и восточный, критский, в царстве Миноса, еще
Из книги Мифы, сновидения, мистерии автора Элиаде МирчаГреческие боги Самый ранний литературный памятник греческой религии есть Илиада. Но эпос Гомера представляется зрелым плодом многовековой культуры, не оставившей нам никаких письменных памятников. Чем была религия греков во II тысячелетии, в «микенскую эпоху», – этого
Из книги Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II автора Лосев Алексей Федорович(?) Люди и боги В этом эпосе, следовательно, вообще сознанию представляется то, что в культе осуществляется в себе, отношение божественного и человеческого. Содержание есть действие сущности, сознающей себя самое. Совершение действий нарушает покой субстанции и приводит в
Из книги Командующее Я автора Шах Идрис(?). Боги между собою Подобно тому как боги впадают в это противоречивое отношение с противостоящей им самостной природой, точно так же их всеобщность оказывается в конфликте с их собственным определением и его отношением к другим. Они - вечные прекрасные индивиды,
Из книги Заратустра говорил не так. автора Иванов Анатолий Михайлович«Сильные боги» Никогда не следует забывать, что в первую очередь именно освящение жизни и магико-религиозные силы всеобщего плодородия оттеснили Высшие Существа от поклонения и религиозного первенства. Это была не та жизнь, как мы жители Запада двадцатого столетия
Из книги Удивительная философия автора Гусев Дмитрий Алексеевич3. Боги и демоны Невозможность для Гомера отличить искусство и жизнь сказывается прежде всего в том, что здесь конструируются образы богов и демонов не как абстрактных и вполне изолированных существ. Эти боги и демоны являются здесь созидателями и активными
Из книги Сравнительное богословие. Книга 2 автора Коллектив авторовБОГИ И ДЕМОНЫ В.: Может ли кто-то поверить суфиям, когда те говорят, что находятся в контакте с неизвестным, видят внутреннюю линию жизни, которой не замечают другие, и в состоянии привнести это знание в сферу образования?О.: Прежде чем ответить, я должен спросить вас, верите
Боги – это наблюдатели Если мы вместе Хоукингом допускаем, что существует волновая функция всей нашей Вселенной, тогда по аналогии с волновой функцией или тенденцией для частицы, Вселенная должна быть тенденцией для своего собственного существования, тенденцией,
Пермская деревянная скульптура - один из символов Пермского края. Коллекция Пермской художественной галереи - крупнейшая в России. В настоящее время ее численность составляет 501 единиц хранения. Активное комплектование относится к начальному периоду в истории галереи. В 1923–1926 годах было организовано шесть экспедиций по сбору предметов старины. Они охватили обширную территорию от Перми и ее окрестностей до самых северных селений на границе региона. Большая часть коллекции деревянной скульптуры - 396 предметов - была сформирована за три с небольшим года: 354 предмета привезены из экспедиций, 42 поступили из храмов и часовен Перми и Мотовилихи. Коллекция охватывает период с конца XVII до начала XX века, в основном это скульптуры XVIII и XIX веков. Большую ее часть составляют памятники православного искусства. Католическая скульптура представлена в коллекции двумя крестами с резным изображением распятия. Наиболее ранние экспонаты датируются концом XVII - началом XVIII веков: Никола Можайский из с. Покча, Никола Чудотворец из Чердыни, Святая Параскева Пятница, Голгофский крест с орудиями Страстей (резная икона). Поздние экспонаты - произведения резчика Никона Кирьянова, жившего на рубеже XIX–XX веков: Распятие, Страстной ангельский чин, Распятие в окружении 34 херувимов. В количественном отношении больше всего рельефных и скульптурных изображений ангелов, херувимов и серафимов (165 экспонатов). Значительную часть коллекции составляют скульптурные композиции: Распятия с предстоящими, Богоматерью, Иоанном Богословом, Марией Магдалиной, Сотником Лонгином (102 экспоната). Получившие мировую известность скульптуры сидящего Спасителя (их в коллекции 17) составили ядро постоянной экспозиции. Абсолютное большинство произведений пермской деревянной скульптуры имперсональны, на сегодняшний день известны имена лишь трех резчиков: Д. Домнина из пос. Лысьва, Н. Филимонова и Н. Кирьянова из дер. Габово Карагайского района. Впервые пермская деревянная скульптура (наряду с шитьем, тканями, изделиями из кости, металла дерева) была представлена зрителю в 1924 году на выставке художественной старины Пермского края, которая прошла в Перми в кинотеатре Колибри (Коммунистическая, 39). В том же году открылась первая экспозиция пермской деревянной скульптуры в здании художественного музея. В 1980 году в научных целях впервые было предпринято рентгенологическое исследование 38 скульптур. Полученные рентгенограммы стали важным исследовательским материалом для уточнения датировок и технологических характеристик этих раритетов. Коллекция была показана на выставках во Франции, Японии, Италии, Бельгии, Германии, экспонировалась в государственной Третьяковской галерее (Москва), ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва), Государственном историческом музее (Москва). В 2017 году впервые была показана на Дальнем Востоке - в музеях Владивостока и Хабаровска, в 2018 году в Омске.